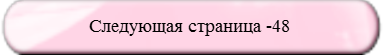Глава сорок седьмая
Глава 47
I
Когда Барт вернулся после выходного дня в больницу, доктор Хейг объяснил ему, что они предписали Джэн режим молчания, чтоб обеспечить ее горлу максимум покоя.
–Нет, нет, ей не хуже,– ответил доктор на вопрос Барта,– уколы принесли ей пользу, а режим молчания поз волит ей сейчас совсем не напрягать гортань, вот и все.
А когда потрясенный этим сообщением и раздираемый страхами Барт пришел на работу, он узнал, что Джим Чэм берс умер в тот же вечер, вскоре после его ухода. Он увидел, что койка маленького аборигена Дарки тоже пус тует.
–А куда Дарки перевели?– спросил он удивленно.
Воцарилось молчание. Прежде чем ему успели ответить, Барт уже мысленно обозвал себя ослом.
–В гости отправился к бабушке,– протянул, не отрываясь от спортивных известий, Боб Шейл, сосед Дарки.
Все молчали. «В гости отправился»,– отозвалось в мозгу у Барта. Барт с болью припомнил личико спящего пар нишки в тот предрассветный час.
–Чинарик есть?– грубо спросил Боб.– Я свою норму уже выкурил.
–Да, конечно.– Барт протянул ему сигарету.
Больные двадцать первой палаты продолжали читать, курить, играть в карты. Они не хотели говорить о Дарки. Глубоко затянувшись, Боб Шейл стал выпускать дым колечками.
–Совсем неожиданно парнишка помер,– сказал он, наконец, спокойным голосом.– Без предупреждения. До черта из него крови вышло, прямо фонтаном било, бог ты мой!
Кашель прервал его рассказ.
–В жизни еще такого не видел! Никогда не подумал бы, что в этаком тощем коротышке кровищи столько!
Боб беззвучно откашлялся, и краешек века у него нервно задергался.
–Зато с ним все быстро кончилось. Слава богу, хоть все кончилось быстро!
Обходя палату, Барт слушал мрачные шутки больных, их невеселый деланный смех, за которым они прятали свое возбуждение. Барт обнаружил, что двадцать первая палата по-своему реагировала на страшные события: она словно тянула жребий, с возбуждением ожидая результатов этой лотереи: кто будет «неизбежным третьим».
Дэнни вздохнул, когда Барт, собирая его на рентген, осторожно надел на него халат.
–Нет, сейчас не моя очередь помирать, Барт. Слишком большое было б счастье.
«Быстро же все у Дарки кончилось,– подумал Барт.– Неужели когда-нибудь он должен будет радоваться, если так и у Джэн будет? Нет. Он ни за что не будет так думать. Нет. Джэн совсем не такая. Она не похожа на других. Джэн борется. И она поправляется. Вдвоем они победят смерть».
II
Джэн молча выслушала предписания доктора. Она смотрела, как сестра Конрик вешает на ее койку табличку с огромными черными буквами – «Молчание». И сердце у нее на мгновение сжалось. По одному из больничных суеверий больная, над постелью которой появлялась такая табличка, считалась обреченной. Конечно, это глупое суеверие, такое же глупое, как и все другие. «Чепуха все это,– говорит Барт.– Вот Линда пролежала шесть месяцев с такой таб личкой и поправилась, да что там – только на прошлой неделе из двадцать первой выписался мужчина, который больше полугода не разговаривал. Если уж он выздоровел, то, значит, каждый может выздороветь».
Молчание само по себе не представляло для Джэн особого неудобства. Молчание стало ее второй натурой, еще с тех пор, как она почти весь день лежала совсем одна в своей сиднейской квартирке. Здесь, в Спрингвейле, она тоже с первых дней довольствовалась тем, что прислу шивалась к пустеньким палатным разговорам, редко при нимая в них участие.
Самым утешительным в ее теперешнем положении было то, что теперь ей не нужно было думать, как лучше отве чать. Никто ведь не думает, что на блокноте, лежащем у койки, она станет писать что-нибудь лишнее, нет, только самое необходимое. Кроме того, можно вообще ответить кивком или улыбкой. Улыбка в любом случае будет кстати, и порой Джэн начинало казаться, что на лице у нее, как у клоуна, нарисована постоянная улыбка.
И все же одно дело молчать, когда тебе не хочется разговаривать, а совсем другое – если это молчание вы нужденное. Тогда ты сразу становишься узницей, молча ние – твоим тюремщиком, и за затворами твоих немых губ, не находя выхода, бушуют мысли, так, как никогда не бушевали они в ту пору, когда ты могла говорить. И, кажется, что невозможно ни на минуту оторвать взгляда от миссис Майерс и потому невозможно забыть о ней. Глядя, как день за днем угасает миссис Майерс, Джэн будто наблюдала за собственным отражением в зеркале. Если не бороться, то же случится и с ней. Вот таким иссохшим существом, на лице которого зубы кажутся непомерно боль шими, такой станешь и ты, если только не будешь бороться. Шерли рассказала ей однажды, что с той самой поры, как миссис Майерс предписали молчание, «она сложила лапки» и прекратила борьбу.
И Джэн дала себе клятву, что она будет продолжать борьбу, что она будет выполнять все предписания – не так, как миссис Майерс. Постепенно миссис Майерс стала для нее символом капитуляции. Нет, она ни за что не сдастся.
Ты молча наблюдаешь окружающее. А когда ты молчишь, все происходящее вокруг с каждым днем при обретает для тебя все больший смысл. Вон Шерли. У нее сейчас очередной психоз. Она огрызается на Мирну, придирается к сестре Конрик, грубит доктору. У Шерли началось кровохаркание, и она пытается скрыть это. Но разве здесь чтонибудь скроешь?
Мирна становится все печальнее, потому что вызов в Кентербери на прожигание спаек еще не пришел. Мирна отлично знает, что эта проволочка вредна для ее легких. И она все меньше говорит о своем Роджере, хотя фотография его еще стоит на тумбочке. Роджер сейчас по горло занят экзаменами. Ему очень трудно стало сюда выбираться. Бедный Роджер, он так страдает изза их разлуки.
Постепенно Джэн перестала наблюдать за жизнью палаты, ее больше не волновали проблемы, занимавшие ее соседок. Она слышала, как они говорят, но смысл их разговоров ускользал от нее – она замкнулась в своем собственном мире. Часами она лежала теперь, глядя на противоположную стену. С приходом осени глубже стала синева неба, узенькая полоска которого виднелась в окно напротив, а на ветке, метавшейся в этом окне, листья становились все желтей. Джэн подолгу смотрела на стеклянный шарик, стоявший на тумбочке. Когда сестра Конрик встряхивала шарик, крохотная девочка проби ралась через миниатюрную снежную бурю. И эта снежная буря уводила Джэн прочь из тусклого больничного мира. И вот она снова была сильной, ловкой, подвижной – ветер трепал пряди ее волос, снег холодил лицо. Легко и сво бодно она шла по белой снежной равнине, прохваченная зимними ветрами.
В неверном плывущем ее сознании заснеженные холмы превращались вдруг в песчаные дюны, и ветерок рябил их склоны, и теперь уже не снег хлестал ей в лицо, а брызги соленого моря; она качалась на гребне, плеск и говор волн стояли у нее в ушах, горячие животворящие лучи солнца ласкали тело.
Барту все мучительнее становилось сидеть подле нее, глядя на улыбку, которая больше не казалась естественной, и пытаясь прочесть в ее лихорадочно блестевших глазах то, что, наверное, должно скрываться за этой улыбкой. Когда она писала ему записочки на листках блокнота, он тайком сравнивал эти каракули с прежними ее записочками, пытаясь проверить, действи тельно ли почерк у нее становится менее четким и разбор чивым, чем раньше, или это ему только кажется.
На все расспросы и врачи и сестры отвечали ему одно и то же: состояние ее не ухудшилось. Уколы оказали положительное воздействие на ее горло, уменьшили боли, и она съедала теперь все лакомства, что приносил ей Барт, хотя с санаторской пищей она все еще не могла прими риться.
Надежда то угасала в их сердцах, то вспыхивала вновь. Барту все труднее становилось разговаривать с ней в те долгие вечера, когда он не уезжал ни в соседний городок, ни в Сидней, а оставался у ее постели. То, над чем смеялись в мужской палате, вряд ли подходило для ее ушей, о событиях, заполнявших больничные будни, тоже не стоило ей рассказывать.
И зачастую после целого дня работы он чувствовал себя слишком усталым, чтобы вести разговор. Если бы она не была так больна, он рассказал бы ей коечто о Дэнни Мориарти, но трудно понять смысл шуток Дэнни, не зная его самого, а описывать его Джэн, да еще когда она в таком состоянии, Барт просто не мог. Сначала их молчание словно какимто ощутимым барьером отгораживало его от Джэн. Джэн будто замкнулась в каком-то своем мире, куда ему не было доступа.
Постепенно он научился подругому воспринимать ее молчание. Оно стало для него символом успокоения, отды ха. В свободные от работы часы он сидел усталый и без молвный у ее постели, не испытывая никакого желания разговаривать. Ее легкая ручка лежала на его руке, и мечты о полном ее выздоровлении причудливым хороводом проносились в его усталом мозгу. Иногда он говорил о тех днях, когда они снова будут вместе, далеко-далеко от Спрингвейла. Он рассказывал ей про домик у озера, который они построят, о детях, что будут играть возле домика. А она, зачарованная, смотрела на него блестящими глазами, легкая улыбка блуждала у нее на губах, и ей казалось, что она ощущает на своих пылающих щеках прикосновение прохладного ветра, дующего над озером.